Куприн читать рассказы для детей: читать онлайн для детей на ночь сказки на РуСтих
Александр Куприн – Жизнь: читать сказку, рассказ для детей, текст полностью онлайн
Рождественская сказка
I
В глухой чаще старого мрачного леса, над серым, мшистым, кочковатым болотом, стояла сосна. Солнце почти никогда не заглядывало в это сырое место. Лишенная с детства живительного света и тепла, всегда окутанная ядовитыми болотными испарениями, она выросла уродливым деревом, с искривленным корявым стволом, с пожелтевшей, иссыхающей хвоей. Днем у ее кривых корней скользили бурые ящерицы, а ночью под ее жидкой сенью бесшумно пролетали хищные совы. Часто зимней ночью, когда деревья, занесенные сплошной пеленой снега, трещали от жестокой стужи, сосна слышала голодный вой волков и видела их яркие глаза. Когда ветер стонал и рыдал по вершинам старого мрачного леса, в унылом скрипе сосны слышалась накопленная годами жалоба: «Как скучно, как страшно жить!» В том же лесу, на опушке, вблизи оживленной дороги у прохладного журчащего ручья, красовалась стройная зеленая елочка. Привольно и весело росла она, то ласкаемая горячими поцелуями летнего солнца, то сверкая каждым алмазом своего снежного убора в лунные зимние ночи. С утра до вечера в ее ароматных, смолистых ветвях звонко перекликалось пернатое царство, а ночью чутко дремало, дожидаясь рассвета. Дорога, возле которой стояла елочка, никогда не пустела. То и дело по ней тянулись длинные обозы, двигались пешеходы, изредка пролетали нарядные экипажи. Ни от чьих глаз не ускользала красавица елочка. Каждый с удовольствием любовался ею и говорил: «Какое прелестное деревцо», а елочка вместе с ними, трепеща от избытка жизни и ласки, шептала: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»
Привольно и весело росла она, то ласкаемая горячими поцелуями летнего солнца, то сверкая каждым алмазом своего снежного убора в лунные зимние ночи. С утра до вечера в ее ароматных, смолистых ветвях звонко перекликалось пернатое царство, а ночью чутко дремало, дожидаясь рассвета. Дорога, возле которой стояла елочка, никогда не пустела. То и дело по ней тянулись длинные обозы, двигались пешеходы, изредка пролетали нарядные экипажи. Ни от чьих глаз не ускользала красавица елочка. Каждый с удовольствием любовался ею и говорил: «Какое прелестное деревцо», а елочка вместе с ними, трепеща от избытка жизни и ласки, шептала: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»
II
Светлый, жаркий полдень. По пыльной раскаленной дороге бредет усталыми старческими шагами богомолец. Его разбитое тело просит отдыха, обожженные солнцем глаза ищут тени, запекшиеся губы жаждут воды. Завидев приветливую тень елочки, он ускоряет шаги. Еще минута — и берестяной ковшик богомольца уже зачерпывает студеную воду ручья. Старик долго и жадно пьет, не отрываясь от ковшика, и потом сладкая дремота на мягкой и сочной траве охватывает его обессилевшее тело. Чувствует он, засыпая, смолистый аромат тенистых еловых ветвей, слышит над собою точно уходящий вдаль птичий щебет, и губы его умиленно шепчут: «Вся премудростию сотворил…» А елочка, ласково простирая над спящим свой прохладный шатер, точно заботливая мать, склонившаяся над любимым ребенком, баюкает старика тихим шелестом… Благоуханная, теплая весенняя ночь. Точно заколдованный, замер лес, весь облитый, весь посеребренный сияющим небом. Страстная, торжествующая, гремит и рассыпается над лесом соловьиная песнь. И звуки, и аромат, и сиянье, и тени o все слилось в одну общую гармонию весенней любви. Под стройной елочкой прижались друг к другу двое влюбленных. Охваченные красотой этой чудной ночи, они боятся нарушить словом или даже поцелуем ее очарованье. Их мысли, их чувства, каждое биение их переполненных сердец сливается в одном аккорде с весенней гармонией.
Старик долго и жадно пьет, не отрываясь от ковшика, и потом сладкая дремота на мягкой и сочной траве охватывает его обессилевшее тело. Чувствует он, засыпая, смолистый аромат тенистых еловых ветвей, слышит над собою точно уходящий вдаль птичий щебет, и губы его умиленно шепчут: «Вся премудростию сотворил…» А елочка, ласково простирая над спящим свой прохладный шатер, точно заботливая мать, склонившаяся над любимым ребенком, баюкает старика тихим шелестом… Благоуханная, теплая весенняя ночь. Точно заколдованный, замер лес, весь облитый, весь посеребренный сияющим небом. Страстная, торжествующая, гремит и рассыпается над лесом соловьиная песнь. И звуки, и аромат, и сиянье, и тени o все слилось в одну общую гармонию весенней любви. Под стройной елочкой прижались друг к другу двое влюбленных. Охваченные красотой этой чудной ночи, они боятся нарушить словом или даже поцелуем ее очарованье. Их мысли, их чувства, каждое биение их переполненных сердец сливается в одном аккорде с весенней гармонией.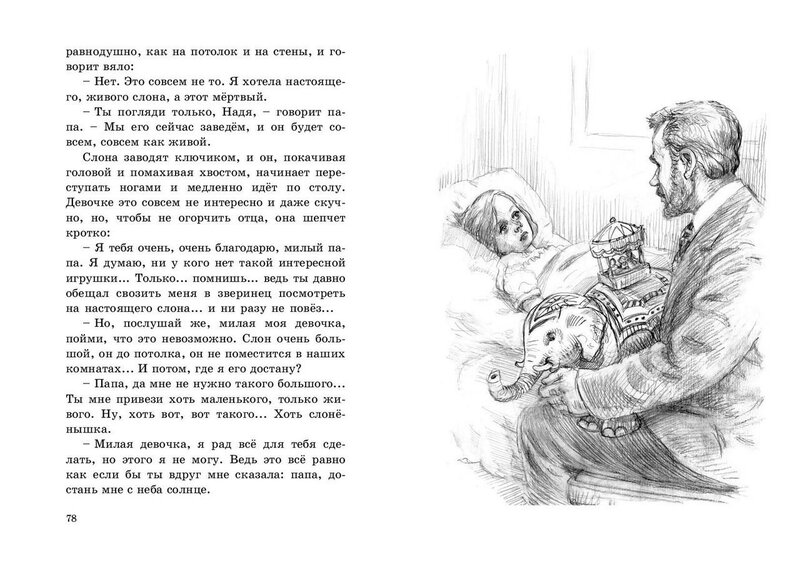 Молодая стройная елочка слышит и понимает эту вечно юную, вечно прекрасную гармонию и, задыхаясь от счастья, шепчет: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»
Молодая стройная елочка слышит и понимает эту вечно юную, вечно прекрасную гармонию и, задыхаясь от счастья, шепчет: «О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!»
Нет! Уродливая, искривленная сосна ничего подобного не видела в своем сыром углу. Редко, очень редко заглядывал туда человек, а если и заглядывал, то с нехорошими мыслями и недобрым лицом. Приходили иногда в черные ненастные ночи, во время проливного дождя, мужики-лесокрады, и сосне казалось, что они своими трусливыми, воровскими движениями и ухватками — родные братья хищным волкам. Иногда пробирался сквозь чащу бродяга. Преступление и боязнь погони заставляли его искать убежища в этом мрачном месте.
III
Однажды, в холодное осеннее утро, через серую пелену тяжелого тумана донеслись до сосны незнакомые ей до сих пор оживленные, веселые звуки: топот и ржанье коней, звонкий, задыхающийся лай собак, возбужденные крики, резкие ноты рожков. Звуки приближались, и сосна вся обратилась в тревожное ожидание. Вдруг из лесной чащи выскочил олень, прекрасное животное на длинных, стройных ногах, дрожащее от испуга и бешеной скачки; следом за ним, в сотне шагов, виднелись собаки, зарьявшие от бега, с красными высунутыми языками. Благородное животное на секунду остановилось у корней сосны. В то же мгновение навстречу ему, прорезав плотную завесу тумана, сверкнул красный огонь. Лес встрепенулся от раската выстрела, и олень, сделав несколько судорожных скачков, повалился на бок. Он дрожал всем телом. В его черных больших глазах, полных слез, выражалось столько страданий, мольбы и упрека, что рука охотника, занесенная над его жертвой, дрогнула пред ударом. Поздно вечером по запаху кровавых следов сбежалась к сосне стая отощавших волков. Они не нашли ничего и завыли, подняв свои головы кверху. Когда же ветер застонал и зарыдал по верхушкам старого мрачного бора, в унылом скрипе сосны послышалась накопленная годами жалоба: — Как скучно, как страшно жить!
Благородное животное на секунду остановилось у корней сосны. В то же мгновение навстречу ему, прорезав плотную завесу тумана, сверкнул красный огонь. Лес встрепенулся от раската выстрела, и олень, сделав несколько судорожных скачков, повалился на бок. Он дрожал всем телом. В его черных больших глазах, полных слез, выражалось столько страданий, мольбы и упрека, что рука охотника, занесенная над его жертвой, дрогнула пред ударом. Поздно вечером по запаху кровавых следов сбежалась к сосне стая отощавших волков. Они не нашли ничего и завыли, подняв свои головы кверху. Когда же ветер застонал и зарыдал по верхушкам старого мрачного бора, в унылом скрипе сосны послышалась накопленная годами жалоба: — Как скучно, как страшно жить!
IV
Так шли года. По-прежнему сосна и елочка повторяли свою песню, по-прежнему сосна, склоняясь все ниже и ниже к ядовитому болоту, видела только мрачную жизнь непросветной лесной чащи, по-прежнему елочка радовалась солнцу, теплу, воздуху и простору. В один сверкающий зимний день на опушку леса пришло два человека в полушубках с топорами в руках.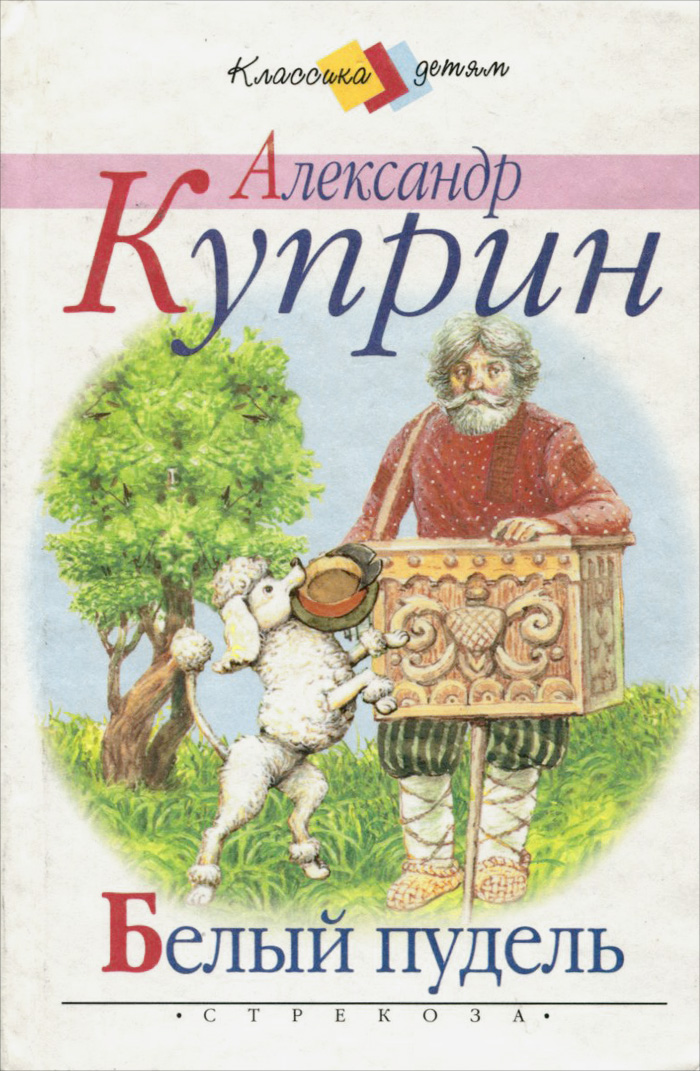 — Вот славное деревцо! — сказал один из них. Другой, не говоря ни слова, сбросил с себя полушубок. Блеснул топор… Елочка вся затряслась от сильного удара, и с ветвей ее плавно посыпались хлопья снега. Елочка лишилась сознания. Вечером она очнулась в роскошном двухсветном зале. Гигантские люстры и бесчисленные канделябры бросали от себя потоки света. Елочка стояла посредине всего этого блеска, украшенная сотнями свечей, золотыми и серебряными лентами, сверкающими погремушками, дорогими подарками, китайскими фонариками и целой коллекцией плюшевых птиц, жуков из фольги, стрекоз, пестрых бабочек и рыбок. Вокруг елки сновала, под веселые звуки музыки, тысячная толпа разряженных детей, с разгоревшимися от восторга глазками, со звонким хохотом и громкими восклицаниями… Детский праздник с каждой минутой становился шумнее и веселее. Дети составили хоровод и с шумным восторгом танцевали вокруг елочки, и она шептала, сияя огнями: — О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!.
— Вот славное деревцо! — сказал один из них. Другой, не говоря ни слова, сбросил с себя полушубок. Блеснул топор… Елочка вся затряслась от сильного удара, и с ветвей ее плавно посыпались хлопья снега. Елочка лишилась сознания. Вечером она очнулась в роскошном двухсветном зале. Гигантские люстры и бесчисленные канделябры бросали от себя потоки света. Елочка стояла посредине всего этого блеска, украшенная сотнями свечей, золотыми и серебряными лентами, сверкающими погремушками, дорогими подарками, китайскими фонариками и целой коллекцией плюшевых птиц, жуков из фольги, стрекоз, пестрых бабочек и рыбок. Вокруг елки сновала, под веселые звуки музыки, тысячная толпа разряженных детей, с разгоревшимися от восторга глазками, со звонким хохотом и громкими восклицаниями… Детский праздник с каждой минутой становился шумнее и веселее. Дети составили хоровод и с шумным восторгом танцевали вокруг елочки, и она шептала, сияя огнями: — О, как прекрасна жизнь! Как хороши люди!.
V
В ту же ночь, когда елочка была царицей детского праздника, в мрачной чаще старого леса произошло ужасное дело: на корявых сучьях уродливой сосны покончил свою печальную жизнь какой-то бесприютный скиталец. С тех пор это место зовется в народе проклятым и люди далеко обходят его. Все ниже и ниже склоняется над болотом, покрываясь красной ржавчиной от его испарений, старая сосна; ее листва совсем высохла и пожелтела, ствол стал еще уродливее. — Как скучно, как страшно жить! — неумолчно ропщет она.
С тех пор это место зовется в народе проклятым и люди далеко обходят его. Все ниже и ниже склоняется над болотом, покрываясь красной ржавчиной от его испарений, старая сосна; ее листва совсем высохла и пожелтела, ствол стал еще уродливее. — Как скучно, как страшно жить! — неумолчно ропщет она.
А на месте срубленной елочки вырастают уже молодые, свежие побеги.
Александр Куприн – Ю-ю: читать сказку, рассказ для детей, текст полностью онлайн
Если уж слушать, Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички…
Звали ее Ю-ю. Не в честь какого-нибудь китайского мандарина Ю-ю и не в память папирос Ю-ю, а просто так. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес: «Ю-ю». Точно свистнул. И пошло — Ю-ю.
Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом… И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу города и предмет зависти любителей.
Ника, вынь указательный палец изо рта. Ты уже большая. Через восемь лет — невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг — палец в рот! Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами… да пыль от колес и копыт…
Выросла, словом, всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!..
Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо? Брось, иначе не буду рассказывать.
Вот так. А самое замечательное в ней было — это ее характер. Ты заметь, милая Ника: живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто — не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой — своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей…
У каждой — своя особенная душа, свои привычки, свой характер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. Совсем как у людей…
Ну скажи, видала ли ты когда-нибудь еще такую непоседу и егозу, как ты, Ника? Зачем ты нажимаешь мизинцем на веко? Тебе кажутся две лампы? И они то съезжаются, то разъезжаются? Никогда не трогай глаз руками…
И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут: осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, — его деликатно называют ослом. Запомни же, что, наоборот, осел — животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил и вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу. Делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно — он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее: осел или человек? Лошадь — совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия…
Говорят еще: глуп, как гусь… А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору — гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор — сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»
Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору — гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор — сейчас же гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га! Кто это шляется по чужим домам?»
А какие они… Ника, не жуй бумагу. Выплюнь… А какие они славные отцы и матери, если бы ты знала! Птенцов высиживают поочередно — то самка, то самец. Гусь даже добросовестнее гусыни. Если она в свой досужный час заговорится через меру с соседками у водопойного корыта, — по женскому обыкновению, — господин гусь выйдет, возьмет ее клювом за затылок и вежливо потащит домой, ко гнезду, к материнским обязанностям. Вот как-с!
И очень смешно, когда гусиное семейство изволит прогуливаться. Впереди он, хозяин и защитник. От важности и гордости клюв задрал к небу. На весь птичник глядит свысока. Но беда неопытной собаке или легкомысленной девочке вроде тебя, Ника, если вы ему не уступите дороги: сейчас же зазмеит над землею, зашипит, как бутылка содовой воды, разинет жесткий клюв, а назавтра Ника ходит с огромным синяком на левой ноге, ниже колена, а собачка все трясет ущемленным ухом.
А за гусем — гусенята, желто-зеленые, как пушок на цветущем вербном барашке. Жмутся друг к дружке и пищат. Шеи у них голенькие, на ногах они не тверды — не веришь тому, что вырастут и станут, как папаша. Маменька — сзади. Ну ее просто описать невозможно — такое вся она блаженство, такое торжество! «Пусть весь мир смотрит и удивляется, какой у меня замечательный муж и какие великолепные дети. Я хоть и мать и жена, но должна сказать правду: лучше на свете не сыщешь». И уж переваливается с боку на бок, уж переваливается… И вся семья гусиная — точь-в-точь как добрая немецкая фамилия на праздничной прогулке.
И отметь еще одно, Ника: реже всего попадают под автомобили гуси и собачки таксы, похожие на крокодилов, а кто из них на вид неуклюжее, — трудно даже решить.
Или, возьмем, лошадь. Что про нее говорят? Лошадь глупа. У нее только красота, способность к быстрому бегу да память мест. А так — дура дурой, кроме того еще, что близорука, капризна, мнительна и непривязчива к человеку. Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке… За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?
Но этот вздор говорят люди, которые держат лошадь в темных конюшнях, которые не знают радости воспитать ее с жеребячьего возраста, которые никогда не чувствовали, как лошадь благодарна тому, кто ее моет, чистит, водит коваться, поит и задает корм. У такого человека на уме только одно: сесть на лошадь верхом и бояться, как бы она его не лягнула, не куснула, не сбросила. В голову ему не придет освежить лошади рот, воспользоваться в пути более мягкой дорожкой, вовремя попоить умеренно, покрыть попонкой или своим пальто на стоянке… За что же лошадь будет его уважать, спрашиваю я тебя?
А ты лучше спроси у любого природного всадника о лошади, и он тебе всегда ответит: умнее, добрее, благороднее лошади нет никого, — конечно, если только она в хороших, понимающих руках.
У арабов — лучшие, какие только ни на есть, лошади. Но там лошадь — член семьи. Там на нее, как на самую верную няньку, оставляют малых детей. Уж будь спокойна, Ника, такая лошадь и скорпиона раздавит копытом, и дикого зверя залягает. А если чумазый ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».
А если чумазый ребятенок уползет на четвереньках куда-нибудь в колючие кусты, где змеи, лошадь возьмет его нежненько за ворот рубашонки или за штанишки и оттащит к шатру: «Не лазай, дурачок, куда не следует».
И умирают иногда лошади в тоске по хозяину, и плачут настоящими слезами.
А вот как запорожские казаки пели о лошади и об убитом хозяине.
Лежит он мертвый среди поля, а
Вокруг его кобыльчина ходе,
Хвостом мух отгоняе,
В очи ему заглядае,
Пырська ему в лице.
Ну-ка? Кто из них прав? Воскресный всадник или природный?..
Ах, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. И правда: мой рассказ почти исчез в предисловии. Так, в Древней Греции был крошечный городишко с огромнейшими городскими воротами. По этому поводу какой-то прохожий однажды пошутил: смотрите бдительно, граждане, за вашим городом, а то он, пожалуй, ускользнет в эти ворота.
А жаль. Я бы хотел тебе рассказать еще о многих вещах: о том, как чистоплотны и умны оклеветанные свиньи, как вороны на пять способов обманывают цепную собаку, чтобы отнять у нее кость, как верблюды… Ну ладно, долой верблюдов, давай о кошке.
Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист: в типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло.
Когда дом начинал просыпаться, — первый ее деловой визит бывал всегда ко мне и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.
Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко: «Муррм».
За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «муррм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «муррм» всегда означало: «Иди за мной».
Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении.
Она не сомневалась в моем повиновении.
Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я притворял ее. Чуть слышное признательное «мрм», S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, — и Ю-ю скользнула в детскую.
Там — обряд утреннего здорованья. Сначала — почти официальный долг почтения — прыжок на постель к матери. «Муррм! Здравствуйте, хозяйка!» Носиком в руку, носиком в щеку, и кончено; потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная.
«Муррм, муррм! Здравствуй, дружок! Хорошо ли почивал?»
— Ю-юшенька! Юшенька! Восторгательная Юшенька!
И голос с другой кровати:
— Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку! Кошка — рассадник микробов…
Конечно, здесь, за сеткой, вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди суть только кошки и люди. Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.
Разве Ю-ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и гречневую размазню с маслом? Должно быть, знает.
Ю-ю никогда не попрошайничает. (За услугу благодарит кротко и сердечно.) Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома — бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом — кляк! — ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше — легко.
Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике. Но — молча.
Мальчуган — веселый, румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-ю прямо влюблен. Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд — и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее — всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.
Но Ю-ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд — и прыжок в сторону. Она горда! Она никогда не забывает, что в ее жилах течет голубая кровь от двух ветвей: великой сибирской и державной бухарской. Мальчишка для нее — всего лишь кто-то, приносящий ей ежедневно мясо. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет.
Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги — здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли. Беззвучно подходит Ю-ю.
«Мрум!»
Это значит: «Идите, я хочу пить».
Разгибаюсь с трудом, Ю-ю уже впереди. Ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, легко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап — четвертая на весу для баланса, — взглядывает на меня через ухо и говорит:
«Мрум. Пустите воду».
Пустите воду».
Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-ю поспешно лижет воду узким розовым язычком.
Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.
Ю-ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором.
«Муррум! Бросьте ваши глупости!..»
И несколько раз тычет носом в кран.
Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует.
Или еще:
Ю-ю сидит на полу перед оттоманкой; рядом с нею газетный лист. Я вхожу. Останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю:
«Вы знаете, что мне нужно, но притворяетесь. Все равно просить я не буду».
Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на оттоманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу — только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.
Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу — только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся — и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках.
Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам: занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады.
Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина! Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли. Где я: в дремучем лесу или на верху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла.
Поворочается немного на столе, помнется, облюбовывая место, и сядет рядышком со мною, у правой руки, пушистым, горбатым в лопатках комком; все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу.
Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как ни мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше.
Царапает, царапает перо. Сами собой приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы. Но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки: того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли?
И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение: следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собою, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.
И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр: черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка. Пусть мухи тоже поспят до завтрева.
За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах, на одеяле.
Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь; до сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные, неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели.
У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так, тебе, например, из тысячи человек девятьсот девяносто скажут: «Кошка — животное эгоистическое. Она привязывается к жилью, а не к человеку». Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь!
Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой;
И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью, и так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно. Да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой;
— Комичный у вас кот. Дежурит! Это курьезно…
Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Ю-ю за ее звериное сочувствие…
И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, — кошка каким-то особенным тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..
Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, — кошка каким-то особенным тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колина изголовья, защелкав челюстями от злости. Ю-ю оставила свой пост. Долго и бесстыдно отсыпалась она на моей кровати. Но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем! Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать: спокойное величие души!..
Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это ни рассказывал, слушали меня с улыбкой — немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно-учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазия у вас, у писателей! Право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видано, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?»
А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло.
Послушай, Ника, как это вышло.
Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый; губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Но уже говорил я тебе: великая сила и неистощимая — человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки, в сопровождении матери, верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и, при некоторой настойчивости, могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса: сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский.
Ю-ю с отъездом двух своих друзей — большого и маленького — долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно: «Мик!» Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило по-кошачьи, я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так: «Что случилось? Где они? Куда пропали?»
И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами; в них я читал изумление и требовательный вопрос.
Жилье она себе выбрала опять на полу, в тесном закутке между моим письменным столом и тахтою. Напрасно я звал ее на мягкое кресло и на диван — она отказывалась, а когда я переносил ее туда на руках, она, посидев с минутку, вежливо спрыгивала и возвращалась в свой темный, жесткий, холодный угол. Странно: почему в дни огорчения она так упорно наказывала самое себя? Не хотела ли она этим примером наказать нас, близких ей людей, которые при всем их всемогуществе не могли или не хотели устранить беды и горя?
Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-ю сидящей у моих ног; знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю.
Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных: животные — людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами.
Я подумал: «Слух у кошки превосходный, во всяком случае, лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого». Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих.
И еще. Был у нас знакомый очень непоседливый мальчик Жоржик, четырех лет. Посетив нас в первый раз, он очень досаждал кошке: трепал ее за уши и за хвост, всячески тискал и носился с нею по комнатам, зажав ее поперек живота. Этого она терпеть не могла, хотя по своей всегдашней деликатности ни разу не выпустила когтей. Но зато каждый раз потом, когда приходил Жоржик — будь это через две недели, через месяц и даже больше, — стоило только Ю-ю услышать звонкий голосишко Жоржика, раздававшийся еще на пороге, как она стремглав, с жалобным криком бежала спасаться: летом выпрыгивала в первое отворенное окно, зимою ускользала под диван или под комод. Несомненно, она обладала хорошей памятью.
«Так что же мудреного в том, — думал я, — что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть: где же спрятан ее любимый дружок?»
Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.
В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху.
Вскоре получил ответ, Коля очень тронут памятью Ю-ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выедут домой.
И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени — иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений и знакомств! Сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений! Я едва-едва успел вставить мою просьбу:
— Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-юшке к уху телефонную трубку. Готово! Говори же ей твои приятные слова.
— Какие слова? Я не знаю никаких слов, — скучно отозвался голосок.
— Коля, милый, Ю-ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее.
— Да я не зна-аю. Я не по-омню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна?
— Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-ю поговорить.
— Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забы-ыл.
В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки:
— Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются.
Легкий стук, и телефонное шипение умолкло.
Так и не удался наш с Ю-ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным «муррум».
Вот и все про Ю-ю.
Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.
|
Написано: 1960; Когда я как-то спросил Куприна, в чем источник его неугасимой любви к цирку, он, ни секунды не колеблясь, ответил: .«Ну, видите ли, я потомственный дрессировщик. Мой дядя, мелкий наровчатский помещик, славился на всю Пензенскую губернию умением обгонять полудиких башкирских лошадей. скачки, борьба и любой другой вид сабантуя, то есть всякого рода народных гуляний с танцами, канатоходством или стрельбой из лука, где самые сильные, ловкие и хитрые награждаются призами.Увы, все художественные старания моего дяди закончились ничего, и он умер бедняком. Я, наверное, тоже умру нищим. Но это меня не пугает, ибо хоть я и проголодался, но у меня останется много хороших воспоминаний. Знаете сказку про камешки на берегу ?” “Нет, не помню.”
«Это очень короткая, но убедительная история. Я слышал ее в Тифлисе. Очень богатый человек потерял все свои сокровища в один день. «По ту сторону», рассказ, в котором Куприн вспоминает свои приключения, рассказывает о младшем лейтенанте Александрове, который ради забавы садится на старую хромую одноглазую лошадь и взбирается по лестнице в ресторан на Второй этаж. Сидя в седле, он выпивает стакан бренди и снова едет вниз, где его встречает толпа восторженных зевак. “Можно сказать, что это был просто трюк скучающего офицера. Неужели это был просто трюк? Если вы так думаете, попробуйте научить одноглазую лошадь карабкаться, пролетать по лестнице и спускаться тоже! Цирк тренеры и райдеры, которых я знаю, говорят, что это один из самых сложных трюков».
Когда Куприн был юношей в кадетском корпусе, а затем в Юнкерской военной академии, он был известен как гимнаст и танцор и преуспевал в построении марша. Куприну было шесть лет, когда одиннадцатилетний мальчик постарше приехал в гости к родственникам в дом на Кудринке в Москве, где он жил с матерью. Мальчик, знавший различные цирковые трюки, вырос и стал известным клоуном и дрессировщиком Анатолием Дуровым. Маленький Анатолий отвел Сашу Куприна в задний коридор, чтобы никто не видел, и показал ему, как он умеет прыгать, кувыркаться, корчить рожицы и пародировать. Когда Куприн несколько лет спустя уезжал в интернат, он всегда по воскресеньям ходил в цирк или в зоопарк, предпочитая проводить день, наблюдая за животными и наблюдая за их повадками, играм с друзьями дома. Когда ему было десять лет и в доме Румянцева, Куприн был охвачен фантастической идеей, что он может летать, если очень быстро перепрыгнет через скакалку. Он решил проверить, сработает ли эта идея, и забрался на столб в спортзале, щелкнул веревкой и перепрыгнул через нее. Увы, он не мог летать!
Когда Куприн был мужчиной средних лет, он вдруг увлекся жонглированием. В Киеве Куприн познакомился со знаменитым борцом Иваном Поддубным, который в то время был только борцом. Куприн уговорил его заняться классической борьбой, и позже Поддубный стал чемпионом мира, титул, который он сохранял на многих международных турнирах. Куприн принимал участие в организации Киевского легкоатлетического общества и как борец легкого веса встречался со многими грозными противниками. Позже Куприн познакомился с Иваном Лебедевым, организатором чемпионата мира по борьбе, который проводится в петербургском Современном цирке. Куприн часто был судьей на этих матчах. Не раз в трудных или загадочных ситуациях шумные и требовательные балконные болельщики протестовали против решения Лебедева. Кричали бы: “Бери Куприна! Пусть Куприн будь судьей!” Тогда знаменитый писатель вставал и говорил, указывая на судья: «Друзья мои, не кричите! Он прав!» И шум утихнет. Иван Заикин был красивым, мощным цирковым силачом. Он начал свою карьеру, работая с гирями, разрывая железные цепи и сгибая стальные ломы на шее. Куприн также уговорил его попытать счастья в классической борьбе. Кроме того, он увлек Заикина авиацией. В Одессе Куприн и Заикин были одной из первых команд в России, которые управляли бипланом. Он пролетел около полукилометра и рухнул на земля. С тех пор Куприн стал страстным поклонником авиации. В 1910 году, когда он смотрел первый безостановочный рейс Петербург-Москва Полет в России начался, он гневно заметил, что это замечательное предприятие отдано в руки людей, которые считают авиацию не великим национальным значением, а только новым источником развлечения. «Авиация стала стильной», — написал он. «Точно так же, как спиритуализм, лицемерие, ложный интерес к спорту и, главное, к спорту одежда, все стали стильными. Позолоченные идиоты нашли необходимо взяться за это грандиозное предприятие».0004 В то время итальянский клоун и гимнаст Джакомино впервые выступал в Цирке модерна. Вряд ли какой-либо другой писатель в мире уделял столько внимания цирку. Первый рассказ Куприна «Аллез» о гордой любви юного циркового акробата появился в 90-х годах и вызвал восторженный отклик у Льва Толстого. Во время пребывания у Чехова в Ялте в 1901 году Куприн написал «В цирке», который был восторженно встречен и Толстым, и Чеховым. Ниже приводится отрывок из письма, которое Куприн написал своей подруге Л. Елпатьевской.
«Тема не слишком запутанная, но какая в ней широта действия: цирк днем, во время репетиций, вечером, во время представления, жаргон, нравы, костюмы, борцовский поединок, напряженное мускулы и красивые позы, волнение толпы и т. В письме Чехову от 1903, Куприн писал(а): «В наше просвещенное время считается зазорным признаться в любви к цирку, но я достаточно смел, чтобы сделать это». В «Белом пуделе» Куприн пишет о маленьком бродячем цирке, состоявшем из старого шарманщика, мальчика-акробата и дрессированного пуделя. Это история с глубоким социальным содержанием, написанная трогательной простотой. Это одна из любимых историй детей во всем мире. «Белый пудель» выдержал бесчисленное количество изданий и переводов. Три других известных цирковых рассказа Куприна — «Ольга Сур», «Легче воздуха» и «Багровая кровь». Куприн мечтал о русском цирке, о школе русских цирковых артистов с репертуаром, который был бы свойственен изобретательности и мудрости народов, населяющих Россию.
«Доживу ли я когда-нибудь до того дня, — говорил он, — когда на цирковой афише вместо иностранных и часто выдуманных имен будут встречаться имена Иванов, Гебитуллин, Дадвадзе и Сидоренко? репертуар не хуже и уж точно намного лучше и оригинальнее, чем у иностранцев, потому что мускулы у нас крепче, судьба не обошла нас мужеством, и у нас достаточно терпения и смеха! мир, потому что наш смех совершенно особого рода». |
Слон, Александр Куприн | Проект «Короткий рассказ»
Маленькая девочка заболела. Каждый день к ней приходил доктор Михаил Петрович, которого она знала очень и очень давно. Иногда с ним были еще два врача, которых она не знала. Они переворачивали ее то на живот, то на спину, прислушиваясь к чему-то, прижимая уши к ее телу, оттягивая веки и глядя. Все это время их лица были очень суровыми, и они издавали важные пыхтящие звуки и говорили друг с другом на незнакомом языке.
Потом они выходили из детской и шли в гостиную, где их ждала мать. Самый важный на вид доктор, высокий седой мужчина в очках в золотой оправе, долго и очень серьезным тоном говорил с ней. Дверь была не заперта, и поэтому девочка могла все видеть и слышать со своей кровати. Она многого не могла понять, но знала, что они говорят о ней. Мать смотрела на доктора своими большими усталыми глазами, покрасневшими от слез. На прощание доктор сказал громким голосом:
«Постарайся, чтобы ей никогда не было скучно, и исполни каждое ее желание».
«О, доктор! Вот именно! Она ничего не хочет!»
«Хм… Ну, тогда подумай, что ей нравилось до того, как она заболела. Какие-нибудь игрушки… или сладости…»
«Доктор, ей ничего не нужно».
«Тогда попробуй заинтересовать ее чем-нибудь…. Попробуйте что-нибудь…. Поверь мне на слово, если ты сумеешь рассмешить ее, сделать счастливой, это будет самое лучшее лекарство. Вы должны понять, что болезнь вашей дочери — это просто равнодушие к жизни, и ничего больше. Добрый день, мадам.
II
«Дорогой, ты ничего не хочешь? Скажи мне, Надя, — сказала мать.
«Нет, мама, я ничего не хочу».
«Хочешь, я принесу тебе всех твоих кукол? Мы можем поставить маленькие кресла, диван, стол и чайный сервиз на вашу кровать. Куклы будут пить чай и говорить о погоде и здоровье их детей».
«Спасибо. Мама… А я их не хочу… Мне так скучно…»
«Ладно, милый, не будем в куклы играть. Хочешь, я позвоню Кате или Жене? Они твои лучшие друзья».
«Нет, не надо. Мама. Пожалуйста, не надо. Я вообще ничего не хочу.
О, мне так скучно!
«Хотите плитку шоколада?»
Но девушка не ответила. Она лишь печально смотрела в потолок. Ничто не повредило ей. У нее даже не было лихорадки, но она с каждым днем становилась все худее и слабее. Ей было все равно, что с ней делают, и она ничего не желала. Она просто лежала в своей постели день и ночь, тихо и грустно. Иногда она засыпала на полчаса, но и сны ей были о чем-то длинном, сером и печальном, как осенний дождь.
Когда дверь из детской в гостиную была оставлена открытой, и дверь из гостиной в кабинет тоже, девочка могла видеть своего отца. Папа все ходил взад-вперед, выкуривая одну сигарету за другой. Иногда он заходил в детскую, садился на край кровати и нежно гладил Надиные ноги. Потом он вдруг вставал и подходил к окну. Глядя на улицу, он насвистывал мелодию, но его плечи содрогались. Потом торопливо прижимал платок то к одному, то к другому глазу и уходил в свой кабинет, как бы сердясь. Там он снова начинал ходить взад-вперед, выкуривая сигарету за сигаретой… Его кабинет становился довольно синим от всего дыма.
Там он снова начинал ходить взад-вперед, выкуривая сигарету за сигаретой… Его кабинет становился довольно синим от всего дыма.
III
Однажды утром девочка проснулась немного веселее обычного. Она о чем-то мечтала, но не могла вспомнить, что именно, и поэтому долго и пристально смотрела в глаза матери.
«Есть что-нибудь, что вы хотели бы?» — спросила ее мать.
Вдруг девочка вспомнила свой сон и сказала шепотом, как по секрету:
«Мама… можно мне… слона? Но я не имею в виду одну фотографию. Могу я?”
«Конечно, дорогой. Во всех смыслах.”
Мать ушла в кабинет и сказала папе, что Надя хочет слона. Папа быстро надел шапку и пальто и вышел из дома. Через полчаса он вернулся с милой дорогой игрушкой. Это был большой серый слон, который кивал головой и махал хвостом. На спине слона была красная ткань, а на ней золотое сиденье с балдахином и три человечка. Но девочка смотрела на игрушку так же равнодушно, как на потолок и стены, и голос ее, когда она говорила, был вялым.
«Нет. Я вовсе не это имел в виду. Я хотел настоящего, живого слона, но этот мертв».
– Подожди, Надя, – сказал папа. «Я его заведу, и он будет совсем как настоящий, живой.
Он завел слона ключиком, и он кивнул головой и взмахнул хвостом, начал передвигать ноги и медленно ходить по столу. Девушку это совершенно не интересовало. На самом деле ей было скучно, но она не хотела разочаровывать отца и поэтому послушно прошептала: «Большое спасибо, милый папа. Я не думаю, что у кого-то из моих знакомых есть такая прекрасная игрушка. Но…. Помнишь, давным-давно ты обещал отвести меня в цирк животных посмотреть на настоящего слона… и так и не сделал.
Но, дорогая, постарайся понять, что это совершенно исключено. Слон очень большой. Он такой же высокий, как потолок, и не может вписаться в наш дом… Кроме того, где мне его найти?
О, мне не нужен такой большой, папа. Маленький будет таким же хорошим, пока он жив. Даже если он только такой большой…. Даже крошечный.
«Мой милый, я бы сделал для тебя что угодно, но это то, чего я не могу сделать. Да ведь это все равно, как если бы ты вдруг сказал: «Протяни руку и достань мне солнышко с неба, папа».
Она грустно улыбнулась.
«Ты такой глупый, папа. Разве ты не думаешь, что я знаю, что ты не можешь получить солнце, потому что оно тебя обожжет! Или луна тоже. О, если бы у меня был слоненок… настоящий».
Она закрыла глаза и прошептала: «Я так устала… Не сердись на меня, папа…».
Ее отец хлопнул себя ладонями по голове и помчался в свой кабинет. Она видела, как он какое-то время расхаживает там. Потом бросил недокуренную папиросу на пол (за что мама его всегда ругала) и крикнул горничной:0004
«Возьми мою шляпу и пальто, Ольга!»
Жена последовала за ним в фойе и спросила: «Куда ты, Саша?»
Он тяжело дышал, застегивая пальто.
«Я сам не знаю…. Но я думаю, что сегодня действительно принесу живого слона».
Жена с тревогой посмотрела на него. «Ты здоров, дорогой? У тебя болит голова? Может быть, вы плохо спали?
«Ты здоров, дорогой? У тебя болит голова? Может быть, вы плохо спали?
— Я совсем не спал, — сердито ответил он. — Я вижу, вы хотите спросить меня, не сошел ли я с ума. Еще нет. До свидания. Все должно быть решено к вечеру.
Входная дверь громко хлопнула, и он исчез.
IV
Два часа спустя он сидел в первом ряду в цирке для животных и смотрел, как дрессированные животные выступают перед своим хозяином. Умные собаки прыгали, кувыркались, танцевали, выли под музыку и выговаривали слова большими картонными буквами. Обезьяны, некоторые из которых были в красных юбках, а другие в синих брюках, прошли по канату и оседлали большого пуделя. Огромные рыжевато-коричневые львы прыгали через горящие обручи. Неуклюжий тюлень выстрелил из пистолета. Слоны были в последнем акте. Их было трое: один большой слон и два очень маленьких карлика, хотя каждый был больше лошади. Странно было видеть, как эти огромные животные, такие неуклюжие и неуклюжие на вид, проделывают сложнейшие трюки, на которые никогда не был бы способен даже очень ловкий человек. Самый большой слон был самым умным из трех. Он сначала вставал на задние лапы, потом садился, становился на голову с поднятыми вверх ногами, ходил по деревянным бутылкам, ходил на катящейся бочке, перелистывал хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, сел за стол, предварительно повязав себе на шею салфетку, и пообедал, как воспитанный ребенок.
Самый большой слон был самым умным из трех. Он сначала вставал на задние лапы, потом садился, становился на голову с поднятыми вверх ногами, ходил по деревянным бутылкам, ходил на катящейся бочке, перелистывал хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, сел за стол, предварительно повязав себе на шею салфетку, и пообедал, как воспитанный ребенок.
Вскоре представление закончилось. Публика уходила. Отец Нади подошел к неуклюжему немцу, владельцу цирка для животных. Он стоял в своей коробке с большой черной сигарой, зажатой в зубах.
— Прошу прощения, — сказал отец Нади. «Вы согласны позволить вашему слону ненадолго прийти ко мне домой?»
Глаза немца расширились. Он замолчал, и сигара выпала у него изо рта. Он с хрипом наклонился, поднял его и сунул обратно в рот. Только тогда он сказал: «Отдать тебе слона? Отвезти домой? Я не понимаю, что вы имеете в виду».
По выражению лица мужчины было видно, что ему тоже хотелось спросить отца Нади, не болит ли у него голова…. Но отец поспешно объяснил ситуацию: у его единственной дочери Нади была очень странная болезнь, которую даже сами врачи не могли толком диагностировать. Она была прикована к постели уже месяц и с каждым днем худела и теряла силы. Она ничем не интересовалась, ей все надоело, и она чахла. Врачи сказали, что ее нужно развлечь, но ей ничего не понравилось; они сказали, что каждое ее желание должно быть выполнено, но она ничего не желала. Сегодня она попросила показать настоящего живого слона. Неужели это было так невозможно?
Но отец поспешно объяснил ситуацию: у его единственной дочери Нади была очень странная болезнь, которую даже сами врачи не могли толком диагностировать. Она была прикована к постели уже месяц и с каждым днем худела и теряла силы. Она ничем не интересовалась, ей все надоело, и она чахла. Врачи сказали, что ее нужно развлечь, но ей ничего не понравилось; они сказали, что каждое ее желание должно быть выполнено, но она ничего не желала. Сегодня она попросила показать настоящего живого слона. Неужели это было так невозможно?
Потом дрожащим голосом добавил, взявшись за пуговицу на пальто немца: «Видишь ли… Я, конечно, надеюсь, что мой ребенок выздоровеет. Но… но… что, если ее болезнь будет прогрессировать… и она умрет?.. Подумай: до конца дней своих я буду мучить себя мыслью, что я не исполнил ее последней воли, самой последней ее воли!»
Немец нахмурился и рассеянно почесал левую бровь мизинцем. Наконец он спросил: «Сколько лет вашей дочери?»
«Шесть».
«Хм… Моей Лизе тоже шесть…. Но это будет очень дорого. Слона придется привести к вам домой ночью и забрать обратно на следующую ночь. Днем это делать нельзя. Соберется публика, и обязательно последует большой скандал…. Итак, это означает, что я теряю заработок за целый день, и вам придется покрывать мои убытки».
Но это будет очень дорого. Слона придется привести к вам домой ночью и забрать обратно на следующую ночь. Днем это делать нельзя. Соберется публика, и обязательно последует большой скандал…. Итак, это означает, что я теряю заработок за целый день, и вам придется покрывать мои убытки».
«О, конечно. Во всех смыслах. Не беспокойся об этом».
«Теперь полиция разрешит мне взять слона в дом?»
«Я все устрою. Они будут.”
«Еще один вопрос: разрешит ли ваш домовладелец взять слона в ваш дом?»
«Да. Дом мой».
«Ах! Это нормально. Теперь еще один вопрос: на каком этаже вы находитесь?
«Второй»,
«Хм… Это не очень хорошо. В вашем доме широкая лестница, высокий потолок, большая комната, широкие двери и очень прочный пол? Потому что мой Томми девять футов четыре дюйма в высоту и пятнадцать с половиной футов в длину. Кроме того, он весит около тонны.
Отец Нади на мгновение замолчал.
«Знаешь что?» он сказал. «Пойдем теперь ко мне домой и осмотрим все на месте. Если понадобится, я расширю дверные проемы.
Если понадобится, я расширю дверные проемы.
«Хорошо!» — сказал владелец цирка.
V
В ту ночь слона привели к больному ребенку. Он гордо шел посреди улицы в белом одеянии, кивая головой, скручивая и раскручивая хобот. Несмотря на поздний час, за ним последовала большая толпа. Однако слон не обратил на это внимания, ведь он привык ежедневно видеть на представлении сотни людей. Рассердился он только однажды, когда к нему подбежал уличный мальчишка и начал корчить рожи и скакать, чтобы позабавить бездельников. При этом слон спокойно поднял хоботом шапку мальчика и перекинул ее через забор, у которого по всему верху торчали гвозди. В толпу вошел полицейский и умолял: «Всем, пожалуйста, разойтись. Что в этом необычного? Хм! Как будто вы никогда раньше не видели живого слона на улицах».
Они подошли к дому. Все двери, ведущие в столовую, начиная с парадной, были открыты настежь, ибо все засовы были забиты. Однако слон остановился, подойдя к лестнице. Он стоял с тревогой и не хотел продолжать. «Вы должны дать ему что-нибудь сладкое», — сказал владелец цирка. «Сладкая булочка или что-то в этом роде… Давай, Томми! Эй, парень!”
Он стоял с тревогой и не хотел продолжать. «Вы должны дать ему что-нибудь сладкое», — сказал владелец цирка. «Сладкая булочка или что-то в этом роде… Давай, Томми! Эй, парень!”
Отец Нади побежал в ближайшую булочную и купил большой круглый фисташковый торт. Слон был вполне готов проглотить ее целиком вместе с картонной коробкой, но хозяин дал ему только четвертак. Томми понравился вкус, и он потянулся за другим куском. Но его хозяин был слишком умен для него. Он держал торт в вытянутой руке и пятился вверх по лестнице, а слону приходилось следовать за ним, вытягивая хобот и хлопая ушами. Томми получил еще один кусок на приземлении. Так его привели в столовую. Вся мебель уже была вынесена, а пол покрывал толстый слой соломы. Нога слона была привязана к кольцу, ввинченному в пол. Перед ним разложили свежую морковь, капусту и репу. Его хозяин лег на диван рядом. Потом погасили свет и все легли спать.
VI
Маленькая девочка проснулась на рассвете следующего дня. Первое, что она сказала, было:
Первое, что она сказала, было:
«Где слон? Он пришел?
«Да», — ответила ее мать. — Но он сказал, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и чашку горячего молока.
«Он хороший?»
«Да, очень. Ешь, дорогой. Мы пойдем к нему прямо сейчас».
«Он смешной?»
«Скорее. Надень свой теплый свитер».
Яйцо быстро съели, молоко выпили. Надю посадили в коляску, в которой ее возили, когда она была еще слишком маленькой, чтобы ходить, и отвезли в столовую.
Слон оказался намного больше, чем Надя ожидала, увидев его фотографию. Он был чуть-чуть ниже дверного проема и занимал в длину половину столовой. Его кожа была очень грубой и спадала тяжелыми складками. Его ноги были толстыми, как столбы. Его длинный хвост имел кисточку на самом конце. На голове были большие шишки. Его висячие уши были огромными и походили на лопухи. Глаза у него были крошечные, но умные и добрые. Его бивни были отпилены. Его хобот был похож на длинную змею и заканчивался двумя ноздрями с подвижной мочкой, похожей на палец, на конце. Если бы слон вытянул свой хобот на всю длину, он, вероятно, задел бы окно.
Если бы слон вытянул свой хобот на всю длину, он, вероятно, задел бы окно.
Девушка ничуть не испугалась. Она просто была немного в восторге от его огромных размеров. Однако ее няня, шестнадцатилетняя Поля, испугалась и начала кричать. Хозяйка слона подошла к Наде и сказала: «Доброе утро, мисс. Не бойтесь. Томми очень хороший и любит детей». Девушка протянула немцу свою маленькую бледную руку. “Как дела?” она сказала. «Я совсем не боюсь. Как его зовут?”
«Томми».
— Как поживаешь, Томми, — сказала она и кивнула. “Хорошо ли спалось?”
Она тоже протянула ему руку. Слон бережно взял ее и сжал ее маленькие, тонкие пальчики своим сильным, гибким, и сделал это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон закивал головой, а его маленькие глазки превратились в щелочки, как будто они смеялись.
«Он все понимает, не так ли?» — сказала девушка немцу.
«Абсолютно все, мисс».
«Просто он не может говорить, не так ли?»
«Да, это так. Он не может говорить. Ты знаешь, у меня тоже есть единственная дочь, и она такая же большая, как ты. Ее зовут Лиза. Томми и она очень хорошие друзья. Лучшие друзья».
Он не может говорить. Ты знаешь, у меня тоже есть единственная дочь, и она такая же большая, как ты. Ее зовут Лиза. Томми и она очень хорошие друзья. Лучшие друзья».
– Ты уже выпил свой чай, Томми? — спросила девушка у слона.
Слон снова вытянул хобот и дунул сильной струей теплого воздуха в лицо девушки, от чего ее шелковистые волосы взлетели вверх. Надя засмеялась и захлопала в ладоши. Немец захохотал. Он был большой, толстый и добрый, как слон, и Наде показалось, что между ними есть сходство. Возможно, он и Томми были родственниками?
«Нет, он еще не пил чай. Мисс. Но ему бы очень хотелось выпить водички с сахаром. Он также любит булочки». Принесли поднос с булочками. Девушка предложила одну слону. Он быстро обхватил ее пальцем, и его туловище понесло ее вверх, спрятав куда-то под голову, где у него была странного вида треугольная волосатая нижняя губа. Надя слышала, как булочка царапает его сухую кожу. Томми сделал то же самое со второй булочкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой. Он кивнул головой в знак благодарности, и глазки его от удовольствия стали еще меньше. Девушка радостно засмеялась. Когда все булочки закончились, Надя познакомила слониху со своими куклами, сказав: «Видишь, Томми, эта хорошенькая куколка — Соня. Она очень добрый ребенок, но она не будет есть свой суп. Это Наташа, дочь Сони. Она только начинает уроки, но знает большую часть алфавита. А это Матрешка. Она была моей самой первой куклой. Видишь, она и носа лишилась, и голова приклеена, и волос не осталось. Но я не могу отослать старую вещь, правда, Томми? раньше она была мамой Сони, а теперь она у нас кухарка. Давай, поиграем. Ты будешь папой, Томми, а я буду мамой, а это будут наши дети. Томми согласился. Он засмеялся, взял Матрешку за шею и поднес куклу ко рту. Но это было только для развлечения. Он немного пожевал его и положил обратно на колени девушке, хотя теперь он был довольно влажным и слегка мятым. Тогда Надя показала ему большую книжку с картинками и сказала: «Это лошадь, это канарейка, это ружье… Вот птичка в клетке, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона.
Он кивнул головой в знак благодарности, и глазки его от удовольствия стали еще меньше. Девушка радостно засмеялась. Когда все булочки закончились, Надя познакомила слониху со своими куклами, сказав: «Видишь, Томми, эта хорошенькая куколка — Соня. Она очень добрый ребенок, но она не будет есть свой суп. Это Наташа, дочь Сони. Она только начинает уроки, но знает большую часть алфавита. А это Матрешка. Она была моей самой первой куклой. Видишь, она и носа лишилась, и голова приклеена, и волос не осталось. Но я не могу отослать старую вещь, правда, Томми? раньше она была мамой Сони, а теперь она у нас кухарка. Давай, поиграем. Ты будешь папой, Томми, а я буду мамой, а это будут наши дети. Томми согласился. Он засмеялся, взял Матрешку за шею и поднес куклу ко рту. Но это было только для развлечения. Он немного пожевал его и положил обратно на колени девушке, хотя теперь он был довольно влажным и слегка мятым. Тогда Надя показала ему большую книжку с картинками и сказала: «Это лошадь, это канарейка, это ружье… Вот птичка в клетке, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона. .. Смотреть! Вот слон! Это совсем не похоже, не так ли? Слоны никогда не бывают такими маленькими, правда, Томми? Томми согласился, что слоны никогда не были такими маленькими. На самом деле, картина ему совсем не понравилась. Он приподнял край страницы пальцем и перевернул ее.
.. Смотреть! Вот слон! Это совсем не похоже, не так ли? Слоны никогда не бывают такими маленькими, правда, Томми? Томми согласился, что слоны никогда не были такими маленькими. На самом деле, картина ему совсем не понравилась. Он приподнял край страницы пальцем и перевернул ее.
Вскоре пришло время ужина, но оторвать Надю от слона было невозможно. Хозяин слона пришел на помощь и сказал: «Подожди. Мы уладим дела по-хорошему. Они будут ужинать вместе». Он сказал слону сесть. Слон послушно сел, отчего дрожал пол, гремела посуда в шкафу и отваливалась штукатурка с потолка в комнате внизу. Девушка села напротив него. Между ними поставили стол. На шею слона повязали скатерть, и новые друзья принялись обедать. У девушки была тарелка куриного супа и котлета, а у слона была куча сырых овощей и салат. Девушке дали крошечный стаканчик хереса, а слону — немного теплой воды со стаканом рома. Он с наслаждением набрал жидкость из миски в хобот. Затем был десерт: чашка какао для девушки и полторта для слона. На этот раз это был ореховый пирог. Все это время немец и отец девушки находились в кабинете, где немец с большим удовольствием пил пиво.
На этот раз это был ореховый пирог. Все это время немец и отец девушки находились в кабинете, где немец с большим удовольствием пил пиво.
После обеда заглянули друзья отца. Еще в фойе им рассказали о слоне в доме, чтобы не пугали. Сначала они не поверили, но потом, завидев Томми, прижались друг к другу в дверях. «Не бойся! Он очень хороший, — сказала девушка, чтобы их успокоить. Тем не менее они быстро прошли в гостиную, постояли там всего несколько минут и ушли.
Близился вечер. Было уже поздно, и девочке пора было ложиться спать, но увести ее от слона было невозможно. В конце концов она заснула рядом с ним, и ее отнесли обратно в детскую. Она даже не знала, что ее укладывают в постель. В эту ночь Наде приснилось, что она вышла замуж за Томми и что у них много детей, все забавные слонята. Той ночью слона вернули в цирк. Он тоже мечтал о милой, милой девушке. Кроме того, ему снились ореховые лепешки величиной с ворота кареты.
Наутро девочка проснулась в самом лучшем расположении духа и, как и прежде, когда была здорова, громко и нетерпеливо закричала на всеобщее обозрение:
«Я хочу молока!»
Когда ее мать услышала ее, она поспешила радостно.
